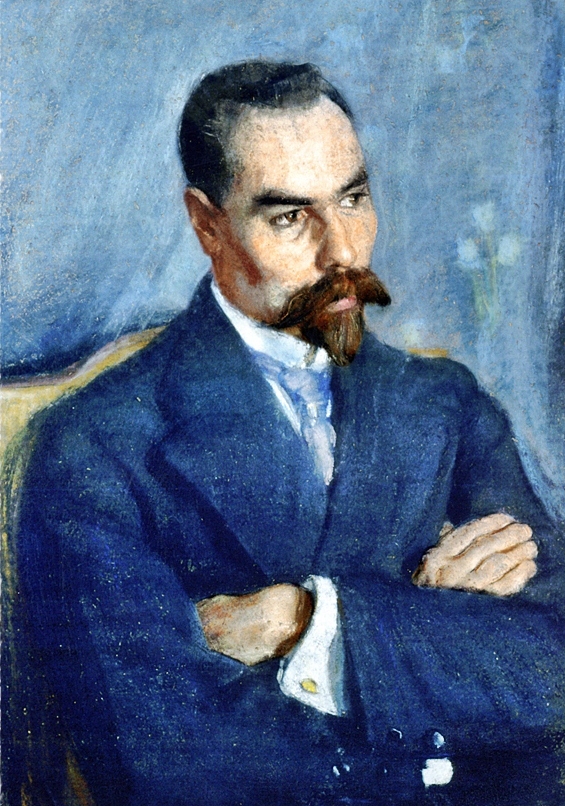https://anat-baranov.livejournal.com/1397745.html
https://forum-msk.ru/material/news/19351944.html
На 15 декабря, то есть за завтра назначена предупредительная "итальянская" забастовка таксистов Яндекса. Почему "итальянская", понятно - по-другому и не получится, поскольку нет ни субъекта, проводящего акцию, ни как таковых общих требований. То есть часть таксистов просто в этот день, хотя и выйдут на линию, но пассажиров брать не будут.
На мой взгляд, если говорить о Москве, дата неудачная - столица стоит в небывалых 10-балльных пробках, и "итальянскую забастовку" в такой ситуации просто никто не заметит. Но моего мнения никто и не спрашивал, а напрасно, все же не последний человек в современном профсоюзном движении.
Спорной является и заявленная цель акции - заставить Яндекс повысить цены. Я как профсоюзный человек просто обязан проявлять профсоюзную солидарность с бастющими, неважно, кто бастует и по какому случаю. Профсолидарность - это штука обязательная.
Но как левый политик и публицист я ж не могу требовать, чтобы повысили цены для населения!
В свое время, при Брежневе еще, повысили цены на такси с 10 копеек за километр до 20-ти и еще подорожала селедка. Так прошло уж 45 лет, а стишок помнится:
Спасибо, Лёня, за такси
И за селедку иваси!
Хотя в советское время, в 1975 году в Москве насчитывалось 16 000 легковых такси. Сейчас в столице количество автомобилей такси составляет около 85 тысяч, в Московской области — почти 120 тысяч, но большая часть из них обслуживает столицу. Из этих цифр понятно, что в советское время такси вовсе не было массовым народным транспортом, а стало таким вот-вот, когда в целом число легковых автомобилей в России выросло на порядок.
Но и из этих советских 16 тысяч такси далеко не все обслуживали трудящихся. Таксисты негласно делились на три категории: мастера, подмастерья и шляповозы.
Мастера - это те, кто никуда не ездил, а в качестве персональной машины обслуживал тех, кому деньги позволяли, а статуса на "Волгу" не хватало - цеховики, крупные спекулянты, бандиты, тоже крупные. Ну и по понятным причинам не хотели привлекать внимания, а так машина в таксопарке, водитель регулярно сдает план, копеечка в копеечку, а куда и зачем он ездит с выключенным счетчиком, никому нет дела.
Подмастерья - это тоже водители, которые никуда не ездили просто так, они обслуживали аэропорты и вокзалы. Такой водила стоял порой целый день, чтобы потом за один рейс сделать и план, и самому заработать. Такие ребята выколачивали рублей по 400-500 в месяц, что соответствовало зарплате министра.
Ну и шляповозы, то есть настоящие таксисты, которые возили пассажиров. Там было не шикарно, но 180-200 рублей в месяц выходило с гарантией.
И вот на всю Москву получалось тысяч десять таких шляповозов. Могло ли при такой нагрузке такси быть массовым средством передвижения? Для рядовых граждан никак. При 20 копейках за километр даже небольшая поезда километров на десять - 2 рубля, если с работы и на работу, то четыре. Умножим на условные 20 рабочих дней - 80 рублей в месяц. Это ж сколько надо было зарабатывать, чтоб на работу на такси кататься? А средняя зарплата в стране составляла 140 рублей. Так что раз в месяц в театр, раз в год на вокзал в отпуск и из отпуска, ну и домой пьяненьким по праздникам.
К чем вся эта долгая история про недавнюю историю?
А к тому, что массовой профессия шляповоза стала в последние, может, 20-25 лет. Не очень легкий хлеб, но бывает и потяжелей. Но ведь у масового потребителя тоже денежки считаные.
Интересно мне даже, откуда у нынешних таксистов вдруг взялось чувство социального превосходства над теми, кого они возят?
Смотришь обсуждения предстоящей забастовки - ну прям бывшие графы и белые офицеры возят парижских пролетариев, которые блюют им на коврик. "Такси не для бичар". "На такси должна не рвань ездить, а состоятельные граждане".
Согласен, но состоятельным гражданам не нужно столько такси в Москве! Во-первых, нет никаких ограничений, и можешь сажать за руль своего "мерседеса" персонального водителя, что состоятельные граждане и делают. Во вторых, если что, есть варианты "Комфорт" или "Бизнес", но там другие требования и к машине, и к водителю. И таких в большом количестве не нужно, не случайно бывает, что агрегатор предлагает "Комфорт" в цену "Стандарта" - простаивают, не так высок спрос. В третьих, есть личные авто у состоятельных граждан, и не по одному. Если пьяный - жена или сын заедут. Так что шлчповоз нужен состоятельному горожанину в исключительном случае, тем более, что ехать по пробкам в Москве бывает раза в два-три дольше, чем на метро. Так иной раз в метро и приятней, тут надо сказать, столичные власти решили пересадить горожан с личных авто на общественный транспорт, и в этом направлении и работают.
Было время, любил скататься в Питер за рулем, удобно в общем. и даже романтично. Но с появлением "Сапсанов" - четыре часа в комфортном кресле, с чашкой кофе в руке... Никакое авто такого комфорта не даст, да за 4 часа и не доедешь.
Да и по Москве - я недалеко от Третьего кольца обитаю, можно иной раз скататься, но на МЦК по тому же маршруту куда беспроблемней, да и быстрей опять же. Да и деньги считаю, хотя больше считаю шаги - помните, в "Ликвидации": "Доктор сказал ходить, я и ходю!" Полезней пешком-то ходить, чем весь день на потной заднице, пусть и на кожаном сиденье.
Все это к тому, что случись Яндексу удовлетворить требования таксистов, и увеличить тариф раза в два, тут же упадет спрос.
ЦБ сообщил о массовом переходе россиян в режим экономии. Все большая доля продукции приобретается в рамках акций, распродаж и скидок, поведение домохозяйств стало более бережливым, а спрос сместился в пользу недорогих категорий товаров. Ритейлеры отмечают снижение спроса на бытовую технику и товары длительного пользования, мебель, товары для дома, строительные материалы, ювелирные изделия. Расходы на такси в обзоре ЦБ даже не указывают - смешно, в режиме экономии от таких вещей отказываются в первую очередь.
Это уже не только к несвоевременности забастовки таксистов 15 декабря, но и год тоже выбрали неудачно...
Таксистов тоже можно понять. Вот в сети вирусится ролик, как молодой таксист в Москве заработал в месяц без малого полмиллиона рублей, но после аренды машины, комиссии Яндекса, налогов, оплаты жилья, бензина, сервиса и немного поесть в фастфуде у него остается... 19 тысяч 700 рублей. Эту цифру запомнил точно.
Ребята, а сколько вы должны зарабатывать "грязными", чтобы вам оставалось на руках хотя бы тысяч сто? Миллион, полтора?
А столько вообще бывает?
Потолок годового заработка самозанятого 2 миллиона 400 тысяч (то есть 200 тысяч в месяц "грязными"), после прохождения этого барьера льготное налогообложение заканчивается. Почему бы не требовать увеличения этого порога до 4 миллионов 800 тысяч, как требует, допустим, профсоюз "Новый труд"? Почему не требовать для таксистов-самозанятых налоговый вычет, хотя бы на бензин и техобслуживание?
Работать на арендованной машине невыгодно - это давно известно. Допустим, 160 тысяч в месяц за аренду - это хорошая зарплата, даже в Москве. Можно было бы требовать льготных кредитов на локализованные авто, к примеру, что тоже говорит профсоюз "Новый труд", или вообще приобретения их в рассрочку без процентов.
Можно было бы требовать снижения комиссии Яндекса, действительно многовато. У агрегатора, конечно, есть свои расходы, но тут есть хотя бы пространство для торга, а требовать от агрегатора уничтожить собственную клиентскую базу по меньшей мере странно.
А просто требовать поднять тариф на проезд для клиентов - это путь в никуда, Яндекс на это не пойдет и будет прав, потому что это грозит ему резким падением доходов. И тогда просто конец "Яндекс-такси".
Но профсоюз тем и отличается от какой-нибудь радикальной партии, что он не заинтересован в ущербе производву, и тем более в его разорении, иначе сами работники пострадают первыми и они же спросят - вы нас куда завели? Но, слава богу, к этой забастовке мы отношения не имеем.
Профсоюз, вообще-то, заинтересован в том, чтоб производство процветало, и чтоб буржуй тоже процветал - тогда можно расчитывать и на достойную оплату труда для работников. А когда предприятие стоит или сокращается, а не дай бог банкротится, то интересы работников просто идут в нужник...
Но эта забастовка не приведет вообще ни к чему, можно не особо беспокоиться. Однако, проблема останется, и ее надо все равно решать.
Ну так решайте, а не усугубляйте свое же собственное положение неисполнимымыми требованиями.
https://anat-baranov.livejournal.com/1397745.html